Попов А.П., Зинченко И.А. Проблемы интеграции розыскных начал в досудебное уголовное судопроизводство (компаративистские заметки)
Опубликовано zinchenko в Чт, 27/06/2019 - 21:16

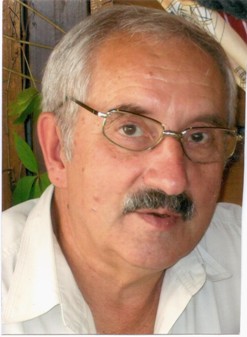 В статье
В статье
Попов А.П., Зинченко И.А. Проблемы интеграции розыскных начал в досудебное уголовное производство (компаративистские заметки)
А.П. Попов – доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса Пятигорского филиала Российского экономического университета им. В.Г. Плеханова
И.А. Зинченко – кандидат юридических наук, доцент
1. Государства, расположенные на постсоветском пространстве, одно за другим включают в новые либо обновленные уголовно-процессуальные кодексы (далее – УПК) разделы, посвященные производству так называемых специальных (негласных) следственных действий [6; 7; 16; 27 и др.]. (Мы бы предпочли именовать их конфиденциальными). Рабочий этап этих действий по собиранию доказательств по существу составляют оперативно-розыскные мероприятия. Правда, в первом из указанных кодексов – в принятом в 2002 году УПК Литовской Республики – соответствующие процедурные правила были включены не в раздел, посвященный производству следственных действий, а в главу 12 «Иные меры процессуального принуждения». (Они оказались в одном ряду с задержанием, приводом, получением образцов, изъятием, дактилоскопированием и др.). В 2003 г. раздел, посвященный негласным действиям, был включен в УПК Эстонской Республики, а в 2005 г. в УПК Латвийской Республики.
Пример прибалтийских стран оказался убедительным для юристов и законодателей других, соседних с Россией государств. В 2012 г. институт негласных следственных действий внедрен в новый УПК Украины. В этом же году в УПК Республики Молдова внесены серьезные изменения и дополнения, предусмотревшие возможность производства специальной розыскной деятельности. Относительно УПК Грузии следует указать на обстоятельство, не всегда принимаемое во внимание отечественными авторами. В проекте УПК этого государства – он принят в 2009 г. – содержалась гл. 16 «Тайные следственные действия», однако по результатам дискуссий было принято решение в окончательный вариант Кодекса ее не включать. Тем не менее, спустя 5 лет, в 2014 г. названная глава (гл. 16.1) в полном объеме получила в нем закрепление.
И еще о принципиальных изменениях 2012 года: раздел 8 УПК Эстонской Республики "Собирание доказательств путем проведения оперативно-розыскного мероприятия"- ст. 110-122 был исключен из главы 3 "Доказывание" и заменен самостоятельной главой 3.1 "Оперативно-розыскные мероприятия" - ст. 126.1 - 126.17.
Тенденция к включению в уголовно-процессуальное законодательство специальных следственных действий получила поддержку и в других государствах. В 2014 г. соответствующие преобразования были реализованы в новом УПК Республики Казахстан, а в 2017 г. – в УПК Киргизской Республики (введен в действие с 1 января 2019 г.). Последние два кодекса для российских авторов представляют особый интерес, поскольку парламентами они принимаются на двух языках – национальном и русском.
В настоящее время глава «Специальные следственные действия» включена в проект УПК Республики Армения (его принятие ожидается в 2020 г.). Таким образом, на постсоветском пространстве кодекс этого государства окажется девятым, в котором детективная деятельность полномасштабно внедрена в уголовное судопроизводство. У нас нет особых сомнений в том, что специалисты и парламентарии Азербайджана, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана могут поддержать соответствующие инициативы при обновлении уголовно-процессуального законодательства. (Вспомним, – все упомянутые кодексы создавались и продолжают создаваться при активном участии представителей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека). Публикации о негласных следственных действиях появляются и в Беларуси [17].
Не за горами время, когда процесс расширения арсенала органов и лиц, осуществляющих досудебное производство, получит реализацию и в уголовно-процессуальном законодательстве России. Тем более что к специальным следственным действиям в УПК РФ примыкают (а точнее – олицетворяют их) процедуры, предусмотренные статьями 185 «Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка», 186 «Контроль и запись переговоров» и 186.1»Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами». На специфику названных действий обращают внимание и другие авторы. С.Б. Россинский предлагает именовать их процессуальными комбинациями [20, с. 296 - 301], В.Ю. Стельмах – тактико-специальными действиями [22, с. 54]. Несмотря на возражения ряда представителей научного сообщества против тенденции «преобразования оперативно-розыскных мероприятий в следственные» [26 и др.], перечисленные действия прочно укоренились в отечественном уголовно-процессуальном законодательстве и доказали право на существование в следственной и судебной практике.
2. В двух десятках доступных нам научных статей, посвященных специальным (негласным) следственным действиям, встречаются самые разные, порой полярные мнения относительно рассматриваемого уголовно-процессуального института (упомянуть их в небольшой работе - здесь мы приносим извинения коллегам - затруднительно). Конечно, далеко не все они нуждаются в детальном доктринальном анализе. Например, в одной из публикаций мы столкнулись с элементарным непониманием сути детективной работы. Автор настаивает на том, что оперативные подразделения полиции не должны ориентироваться лишь на процессуальные негласные действия, инициированные прокурором и следователем, они должны также и самостоятельно выполнять возложенные на них задачи по предотвращению и раскрытию преступлений [13]. Есть ли необходимость полемизировать по поводу столь очевидного обстоятельства? Думается, что нет.
Подавляющее число работ сторонников включения конфиденциальных следственных действий в УПК РФ не отличается глубиной юридического анализа в том смысле, что не претендует на комплексное освещение категорий доказательственного права, не обращается к противоречиям, содержащимся в кодексах соседних стран. (Исследования, свободные от этих недостатков [например, 3; 10], единичны). Нередко звучащая в них аргументация ограничивается одной лишь бесспорной констатацией: современная преступность бросает серьезные вызовы государству и обществу, требующие разработки адекватных средств и методов противодействия ей. Авторы этих работ зачастую удовлетворяются анализом моноисточника – одного нормативного акта (на раннем этапе это был УПК Латвийской республики [8; 21], позже – УПК Украины [1 и др.]). Огорчает и отсутствие должного внимания исследователей к соответствующему национальному законодательству об оперативно-розыскной деятельности, нормы которого взаимосвязаны, порой очень плотно (как, например, в той же Украине), с институтом негласных следственных действий. Игнорируется факт отсутствия допуска у ряда субъектов доказывания к составляющим государственную тайну средствам и методам ОРД. Гиперболизируется роль второстепенных, прикладных вопросов, не порождающих научных проблем.
Не находим в специальной литературе мы и внятное обоснование преимущества производства негласных следственных действий перед дачей поручения следователя органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий, проводимого в рамках традиционного взаимодействия названных субъектов. (Хотя, казалось бы, проблема легализации оперативных материалов – их представление органом дознания и принятие следователем – была успешно решена в период действия УПК РСФСР, о чем можно было прочитать в любом приличном учебнике или комментарии к Кодексу). Ответ на поставленный вопрос не прост, ведь процедура получения разрешения на производство названных действий достаточно сложна. Думается, он не может лежать на кончике пера, а ограничиться исследованием проблем отечественного и зарубежного права здесь невозможно. В данном случае, вероятно, не обойтись без убедительных эмпирических данных, подтверждающих либо опровергающих эффективность рассматриваемых нами процедур. Конечно, в специальной литературе встречаются отдельные сведения. Видный украинский ученый проф. Б.Г. Розовский отмечает, что новые правила повлекли значительное увеличение бюджетных средств, выделяемых на уголовное производство, произошел рост кадрового состава следователей (свыше 25%), чрезвычайно возросли сроки выполнения процессуальных действий, необходимых для получения требуемой информации [18, с. 157 – 161]. В другой работе Б.Г. Розовский пишет: Если до принятия нового УПК оперативные сотрудники могли установить место нахождения мобильного телефона в считанные часы, «то теперь требуются недели разных согласований на уровне суда – якобы западная демократия восторжествовала! Из-за идеологии приходится содержать фантастическое количество бездельников-контролеров» [19, с. 62]. По свидетельству эксперта по реформированию органов правопорядка Е. Крапивина осуществляемые на Украине преобразования, включая создание Национальной полиции, службы детективов и др., не принесли ожидаемых результатов. Эти оценки касаются и динамики преступности, и доверия населения к органам уголовной юстиции, и других факторов, ради которых собственно осуществляется государственно-правовое реформирование [11].
Проф. А.Ф. Волынский справедливо указывает, что проведенные, в частности, в УПК Украины, преобразования могут служить для России «масштабным правовым экспериментом» [1], однако соответствующих данных и, главное, солидного их анализа, увы, нет. В этом отношении надо заметить, что существуют отдельные сведения о «негласной процессуальной» деятельности в США, в государствах Западной Европы [21 и др.], но вот получить убедительную, полноценную информацию от коллег из соседних государств, несмотря на предпринимавшиеся усилия, нам не удалось.
3. Огорчительно площадь журнальной страницы посвящать очередной порции критики, однако, чтобы прозвучавшие выше заявления не были голословными, обратимся к ряду конкретных материалов. Так, в работе украинского исследователя С.Р. Тагиева заявлено о создании им авторской концепции института негласных следственных действий – «идеальной модели теоретико-прикладного взаимодействия между оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельностью» [24]. Каково же конкретное содержание этой модели? В небольшой по объему статье трижды (не считая еще и перевода на английский язык) – в аннотации, в основном разделе и в заключении – повторены положения, которые уже успешно реализованы в действующем УПК Украины. Это, в частности: 1. Негласные следственные действия – есть разновидность следственных действий – гл. 21 УПК. 2. Ключевой их признак – негласность – гл. 21, ст. 246 и последующие. 3. Построение их системы зависит от факта вмешательства в частное общение – §§ 2 и 3 гл. 21 УПК. 4. Преимущественное их проведение по уголовным производствам о тяжких и особо тяжких преступлениях – ч. 2 ст. 246 УПК. 5. Тесная связь негласных следственных действий с оперативно-розыскной деятельностью – ст. 40, 41, 246 УПК и др. [24, с. 74, 75 и 77]. Возникает вопрос: можно ли в ситуации, в которой законодательство опередило создание соответствующей теоретической модели, утверждать о разработке научной концепции? Думается, что нет, ибо она уже ранее была разработана, полагаем, другими специалистами – создателями УПК Украины и иных стран. (Располагаем мы и монографией С.Р. Тагиева [23], но в данном случае речь идет об одной из его научных статей).
Я.М. Мазунин и П.Я. Мазунин полагают: если придать негласным приемам процессуальную форму, то «достоверность сведений, полученных в результате ОРД, будет иметь предпочтение над допустимостью, а содержание – над формой доказательств» [12, с. 139]. По этому поводу, во-первых, заметим – в данном случае речь должна идти уже не об «ОРД», а о следственных действиях конфиденциального свойства. Во-вторых, непонятно какую конкуренцию допустимости и достоверности, содержания и формы доказательств пытаются предложить авторы. Нам здесь видятся понятийные заблуждения. Допустим, формой устных сообщений в процессуально-правовом смысле являются показания, содержанием – устанавливаемая информация. Что и над чем здесь может или должно «преобладать»?
По мнению И.И. Карташова «объективно отсутствуют препятствия для детальной регламентации процедуры проведения оперативно-розыскных мероприятий, как это сделано для следственных действий», а рассекречивание процедуры ОРД не повлияет на их эффективность [9, с. 26]. О рассекречивании средств и методов оперативно-розыскной деятельности, составляющих государственную тайну, представляющуюся автору «секретом Полишинеля», а также об увязывании данной позиции с требованиями ст. 12 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», пусть выскажутся соответствующие специалисты. Что же касается детальной процессуализации негласных компонентов специальных следственных действий (наблюдения за лицом или местом, прослушивания переговоров, установления местонахождения электронного средства и др.), то в этом нет никакого резона. Они не составляют предмета уголовно-процессуального регулирования, не порождают уголовно-процессуальных правоотношений. (Возможна аналогия с «рабочим» (исследовательским) этапом такого следственного действия как назначение и производство судебной экспертизы). В подобных ситуациях используются ведомственные подзаконные нормативно-правовые акты, неминуемо сопровождающие уголовный процесс.
Примеры критики подобного рода, отражающей уровень правовой теории, можно продолжать, хотя особо смысла в этом нет.
4. Наиболее последовательные критические позиции в отношении внедрения негласных начал в уголовное судопроизводство заняты проф. С.А. Шейфером [25], его последователями и сторонниками [4; 14 и др.].
Рассмотрим суть их возражений и аргументов:
а) резкое несогласие вызвало закрепленное в ряде УПК соседних государств (например, ст. 246, 267, 269 УПК Украины) правило, согласно которому негласные следственные действия вправе выполнять сам следователь. «Трудно представить себе наблюдение, – пишут Е.А. Новикова и С.Ф. Шумилин, – осуществляемое следователем, например, за каким-нибудь участником досудебного расследования по уголовному делу, находящемуся в производстве этого же следователя» [14, с. 92]. Аргументируется эта точка зрения, во-первых, отсутствием у следователя необходимых профессиональных навыков для выполнения детективной работы. Дескать, нельзя заставить следователя «служить двум богам» – розыску и следствию. Во-вторых, отмечается отсутствие в уголовно-процессуальном законодательстве процедурных правил, направленных на механизм реализации негласных мероприятий [14, с. 92 – 93].
Нам эти доводы представляются излишне надуманными. Ведь должно быть ясно – специальные следственные действия носят комплексный характер: они содержат в себе уголовно-процессуальную и детективную составляющие, точно так же как это имеет место, например, при прослушивании телефонных или иных переговоров на основании ст. 186 УПК РФ. Процессуальную часть осуществляют следователь, прокурор и суд. Они принимают решение о проведении этих действий, несут ответственность за законность и обоснованность их назначения, а отчасти и производства. Именно они оценивают доказательственное значение полученных результатов и их эффективное использование в уголовно-процессуальном доказывании. Сотрудники оперативных подразделений обязаны обеспечить надлежащее исполнение рабочего этапа детективных мероприятий, которые, естественно, регламентируются не УПК, а ведомственными подзаконными нормативными актами. В кодексах соседних государств (например, в ч. 2 ст. 210 УПК Латвийской Республики) на этот счет специально подчеркивается: «если для реализации специального следственного действия необходимо использовать средства и методы оперативной работы, их производство поручается только особо уполномоченным законом государственным учреждениям». В гл. 16.1 УПК Грузии включена специальная статья – ст. 143.4, именуемая «Орган, обладающий полномочием на производство тайных следственных действий». Таковым определен «государственный орган с соответствующим полномочием в порядке, установленном Законом Грузии «Об оперативно-розыскной деятельности». Четкая позиция относительно разграничения компетенции следователя и сотрудников оперативных служб при производстве специальных следственных действий предложена в п. 6 ч. 1 ст. 35, п. 4 ч. 2 ст. 37 и в ч. 7 ст. 212 нового УПК Киргизской Республики. Какое-либо иное толкование этих норм нам представляется, по меньшей мере, странным;
б) в полемике о включении в уголовное судопроизводство негласных следственных действий неизменно звучит мнение об ущемлении прав лиц, в отношении которых они проводятся. Нам уже неоднократно доводилось выступать с опровержением этой точки зрения [6, с. 26 и др.]. Мы предлагаем нашим критикам еще раз обратиться к содержанию норм зарубежных УПК. Созданные в них особые основания, условия, специальные процедурные правила и ограничения свидетельствуют о серьезном подходе к решению данной проблемы. Они видны даже невооруженным глазом. Сошлемся пока лишь на ч. 2 и 3 ст. 143.1 УПК Грузии «Принципы производства тайных следственных действий». В ней установлено, что таковые действия могут осуществляться не только если они предусмотрены «настоящим Кодексом», но и необходимы для достижения «легитимной цели в демократическом обществе». Такими целями называются неотложная общественная необходимость и пропорциональное соответствие интенсивности («пределов») тайных процессуальных мероприятий их законным целям.
Уместно вспомнить о существовании в целом традиционного предвзятого отношения к детективной работе как к неизбежному злу – грубому вторжению в личную жизнь человека. Отношения, существующего не только в обыденном правосознании, но и в воззрениях правоведов. Однако, задумаемся, что больше способно причинить значительный урон личности (прежде всего – добропорядочному гражданину и его близкому окружению), – публичные легальные проверки, сопряженные с вызовами для производства процессуальных действий, осмотрами, выемками, экспертными исследованиями, предъявлениями для опознания либо скрытые, осторожные, неофициальные, осуществленные в рамках правовых предписаний и обеспеченные необходимыми гарантиями, мероприятия? Да и оперативно-розыскная деятельность далеко не бесконтрольна. Достойно сожаления лишь, что горькая реальность ломает многие благие представления и нормы;
в) также ошибочным называется путь, когда в отечественное судопроизводство внедряются чужеродные институты и нормы, противоречащие российским национальным и историческим корням и традициям [4, с. 40 и др.]. В отношении этого критического замечания, а оно достаточно привлекательно и имеет широкое распространение, отметим следующее. В ситуации международной интеграции и глобализации, затрагивающей все сферы жизнедеятельности общества (право и правоохранительная деятельность – не исключение), значение национальных факторов ослабевает. Кроме того, что конкретно мы можем сказать о воплощении исторических и национальных традиций в УПК РФ? Допустим, Устав уголовного судопроизводства 1864 г. справедливо оценивался его современниками как закон, в каждом правовом институте которого лежит печать самобытности, «имеющей самостоятельную, русскую физиономию» [25, с. 44]. УПК РСФСР 1960 г. можно охарактеризовать как зеркало советских, социалистических общественных отношений. А что УПК РФ в указанных смыслах унаследовал от своих предшественников – Устава, УПК РСФСР 1923 и 1960 годов? По большому счету, пожалуй, лишь следственную форму уголовного процесса, неспособную в существующих гипертрофированных реалиях обеспечить независимость и беспристрастность суда;
г) критики специальных следственных действий отмечают, что в западноевропейских государствах «результаты ОРД» приобретают значение доказательственной информации только в результате признания ее таковой судом. «В нашем же уголовном процессе такое ограничение отсутствует, ибо на получение доказательств управомочен не только суд, но и следователь» [26, с. 49 – 50]. Здесь хотелось бы, во-первых, отметить, что и в российском уголовном судопроизводстве окончательная оценка всем собранным в ходе досудебного производства материалам также дается (должна бы даваться) судом. Он вправе признать недопустимыми любые сведения, полученные с нарушением федеральных законов. Во-вторых, не может быть и речи о механическом включении оперативно-розыскных мероприятий в существующую схему уголовного судопроизводства. Корректировке должны подвергнуться также и многие другие институты и нормы УПК РФ, прежде всего те из них, которые составляют доказательственное право, статус субъектов доказывания. Именно по этому пути и пошли соседние государства, пополнившие арсенал средств доказывания специальными (негласными) следственными действиями. Так, в п. 23 ст. 3 УПК Грузии доказательства определяются как представленная в суд информация, а также «содержащие эту информацию предметы, документы, вещества и иные объекты», на основе которых стороны в суде подтверждают или отрицают факты, а суд устанавливает наличие или отсутствие факта или деяния, ввиду которого осуществляется уголовный процесс. В УПК Эстонской Республики в статьях 60 «Доказанность и общеизвестность», 61 «Оценка доказательств» и 62 «Предмет доказывания» в качестве субъекта доказывания также фигурирует лишь суд. (Хотя, принципиально важны вовсе не дефиниции, а соответствующие им процедуры).
5. Вряд ли имеет смысл в рамках статьи продолжать заниматься цитированием доступных специалистам кодексов соседних стран. Обратимся к более интересной материи. Попытаемся проанализировать реальную правовую защиту конкретных участников уголовного процесса и иных лиц, вовлекаемых в орбиту уголовного судопроизводства, в рассматриваемых нами условиях. Например, к конфиденциальному сотрудничеству запрещается привлекать адвокатов, нотариусов, медицинских работников, священнослужителей, журналистов, если такое сотрудничество будет связано с раскрытием информации профессионального характера – ч. 8 ст. 212 УПК Республики Киргизия и др. Производство «тайного следственного действия» в отношении этих лиц допускается лишь в случаях, «когда указанное не связано с получением ими охраняемой законом информации духовной или профессиональной деятельности» – ч. 2 ст. 143.7 УПК Грузии и др. Ч. 8 ст. 232 УПК Республики Казахстан дополнительно запрещает проводить негласные следственные действия в отношении адвокатов, осуществляющих профессиональную помощь. Частью 10 ст. 132.4 УПК Республики Молдова запрещаются разрешение и осуществление специальных розыскных мероприятий, «объектом которых являются правоотношения между адвокатом и его клиентом». (Здесь мы еще раз вспоминаем авторов, критикующих рассматриваемые процессуальные действия, как ущемляющие права участников досудебного производства).
С позиций компаративизма обратим внимание на то, какими правовыми средствами в УПК РФ обеспечиваются права адвокатов, осуществляющих защиту и представительство по уголовным делам при проведении детективных и следственных действий (в том числе, конфиденциального характера). Из нескольких десятков норм мы выбрали одну – ключевую. Имеется в виду дополнение ч. 2 ст. 75 УПК РФ пунктом 2.1, предусматривающим новое основание, влекущее недопустимость доказательств в уголовном судопроизводстве (ФЗ РФ от 17.04.2017 № 73-ФЗ). Новелла включила в число недопустимых доказательств «предметы, документы или сведения, входящие в производство адвоката по делам его доверителей, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, за исключением предметов и документов, указанных в части первой статьи 81 настоящего Кодекса».
Казалось бы, норма, помещенная в пункт 2.1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, должна носить запретительный характер. Но тут в логику рассуждений вмешивается предусмотренное пунктом 2.1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ исключение. Оно в этой же норме устанавливает допустимость использования в уголовном судопроизводстве тех предметов и документов, входящих в досье адвоката, которые обладают признаками, указанными в ч. 1 ст. 81 УПК РФ. Имеются в виду вещественные доказательства. Заметим: дознавателю или следователю не составляет большого труда признать вещественным доказательством практически любой документ, «входящий в производство адвоката». (Это же не справка о судимости или характеристика с места работы обвиняемого). Более того, именно так им и следует поступить в случае возникновения затруднений с отнесением изъятого объекта к тому или иному виду источника доказательств. На практику подобного рода правоприменителей ориентирует и буквальное толкование пункта 3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ. Тенденция к смешению вещественных доказательств и документов в значении ст. 84 УПК РФ прослеживается и в развивающемся уголовно-процессуальном законодательстве. Так, согласно ч. 1 ст. 81.1 УПК РФ источниками доказательств в значении ст. 81 УПК РФ, являются не только вещи-предметы, но и документы (пока, правда, как бы, по ограниченной категории уголовных дел). В их число включаются электронные носители информации, обнаруженные и изъятые в ходе досудебного производства. Да и в целом трудно найти логику в защите процессуально-правовыми средствами вещественных доказательств, но в отказе в этой защите документам как самостоятельным процессуальным источникам сведений [15]. (Не вернее было бы позаботиться о укреплении статуса документов?). Норма парадоксальна: из запретительной по форме она по сути превратилась в разрешительную [5, с. 39 - 40]. В этом плане в вопросах обеспечения адвокатской тайны УПК РФ явно уступает зарубежным аналогам даже в отношении «традиционных» следственных действий. А, возможно, не только в этом.
6. В пределах позитивного права – ныне действующего УПК РФ (он не вечен) мы не видим непреодолимых препятствий для расширения числа конфиденциальных следственных действий по собиранию доказательств. В этом суждении нет непосредственной инициативы de lega ferenda. Мы лишь задаемся вопросом о гипотетической допустимости подобного пополнения средств доказывания в рамках досудебного производства. В частности, гл. 24 УПК РФ «Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент» при определенных, указанных в законе условиях может быть дополнена такими действиями как наблюдение и оперативный эксперимент; гл. 26 УПК РФ «Производство судебной экспертизы» – скрытым сбором образцов для сравнительного исследования. (Этот перечень может быть иным). Обратим при этом внимание на то, как в 2016 г. совершенно безболезненно ст. 185 УПК РФ Федеральным законом от 06.07. 2016 № 375-ФЗ была дополнена частью 7, предусматривающей осмотр и выемку электронных и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи. (Аналог этого действия предусмотрен ст. 6 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»). Прагматический смысл подобных и других дополнений видится в придании сведениям, полученным в результате проведения этих действий, статуса доказательств.
В России упомянутыми «указанными в законе условиями» служат требования ст. 29, 165, 185 – 186.1 УПК РФ о проведении конфиденциальных следственных действий на основании судебного решения. Во-вторых, ограничения ч. 1 ст. 186 УПК РФ, касающиеся возможности контроля и записи переговоров по уголовным делам о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях. Но подобного рода ограничений мало. В кодексах государств ближнего зарубежья их относительно специальных (негласных) следственных действий несравненно больше. Так, в отличие от УПК РФ, данные действия допустимы лишь при производстве по уголовным делам, относящимся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, и это требование касается абсолютно всех конфиденциальных действий – ч. 3 ст. 212 УПК Республики Киргизия. УПК Грузии устанавливает еще большие ограничения: его пункт «а», ч. 2 ст. 143.3 содержит перечень конкретных составов преступлений, по которым возможно производство «тайных» следственных действий (в ст. 143.2 данное правило провозглашено одним из принципов). Негласные следственные действия проводятся в ситуации, когда сведения о преступлении и лице, его совершившем, невозможно получить иным способом – ч. 2 ст. 246 УПК Украины. В редакции УПК Республики Молдова – ст. 132.1 – «иным путем невозможно достижение цели уголовного судопроизводства и/или может быть нанесен значительный ущерб собиранию доказательств». В перечисленных кодексах установлен особый порядок хранения, передачи, уничтожения негласной информации, уведомления лиц, в отношении которых осуществлялась детективная деятельность и др. (Аналогичные нормы, содержатся в Доктринальной модели, разработанной коллективом авторов под руководством проф. А.С. Александрова [3, с. 98 – 101]).
Что же касается будущего УПК РФ, то его ждут более радикальные преобразования. (Нельзя не обратить внимания на все чаще звучащую беспрецедентную критику Кодекса). В принципе эта проблема уже обсуждается в самых разных направлениях (охватить их в рамках статьи невозможно). Наличествуют отдельные прорывные работы [2; 3 и др.], но они малочисленны и неспешно овладевают сознанием процессуалистов. Большинство же специалистов предпочитают трудиться в рамках безопасных традиционных представлений. Отчасти, именно на грядущие преобразования обращает внимание проф. Н.Н. Ковтун, который, характеризуя институт негласных следственных действий, пишет: «дерзости отдельных исследователей если хватает, то только на то, чтобы перешагнуть через барьеры, а их надо просто снести» [10, с. 32].
Проблемы здесь глубинные, они более сложны, чем те, что лежат на поверхности. Их решение не может ограничиться лишь терминологическими и даже понятийными преобразованиями, ведь новое отношение к основополагающим категориям доказательственного права в конечном счете покушается на саму модель уголовного процесса. Оно – по крайней мере, так мыслится – должно изменить характер взаимоотношений между субъектами, осуществляющими предварительное производство, и главным субъектом уголовно-процессуальной деятельности – судом, сделать решительный шаг в направлении обеспечения его реальной независимости. (Яркие примеры – УПК Грузии и Эстонской Республики). Эти обстоятельства не могут не понимать и не принимать во внимание руководители государственных структур, ответственных за организацию и деятельность правоохранительных органов. Хотя, как свидетельствует опыт законотворчества, в данной сфере порой принимаются самые неожиданные решения.
Библиографический список:
1. Волынский А.Ф. Новый УПК Украины – масштабный правовой эксперимент для России // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 7. С. 37 – 41.
2. Гмирко В. П. Реструктурізація вітчизняного кримінального процесу: The attempt of dogmatic Shawshank redemption? // Правова позиція. 2018. № 1 (20). С. 21- 36 / URL: http://www.iuaj.net/node/2579
3. Доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного права Российской Федерации и комментарии к ней / под ред. А.С. Александрова. М.: Юрлитинформ, 2015. – 304 с.
4. Зайцева Е.А. С.А. Шейфер о системе следственных действий // Юридический вестник Самарского университета. 2017. Т. 3. № 4. С. 38 – 42.
5. Зинченко И.А. Новое основание для признания доказательств недопустимыми в уголовном процессе // Правда и закон. Научно-практический журнал Санкт-Петербургской академии Следственного комитета РФ. 2018. № 3 (5). С. 37 – 41.
6. Зинченко И.А., Попова И.А. Интеграция розыскных начал в уголовное судопроизводство // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 4 (9). С. 19 – 29.
7. Зинченко И.А., Попова И.А. Проблемы интеграции розыскных начал в досудебное производство // Уголовный процесс современной России. В 2 т. Т. 2. Досудебное и судебное производство. Проблемные лекции: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / под ред. В.Т. Томина, И.А. Зинченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. С. 101 – 118.
8. Кавалиерис А. Об одном аспекте интеграции криминалистической и оперативно-розыскной деятельности // Роль и значение деятельности Р.С.Белкина в становлении современной криминалистики. Материалы Международной конференции. М., 2002. С. 66 – 71.
9. Карташов И.И. Негласные следственные действия в уголовном судопроизводстве России: состояние и перспективы // Международный вестник медицины и права. Воронеж, 2018. № 1. Т. 1. С. 26 – 27.
10. Ковтун Н.Н. Негласные следственные (розыскные) действия УПК Украины как легитимные процессуальные средства доказывания // Уголовное судопроизводство. 2013. № 4. С. 26 – 32.
11. Крапивин Е. Семь мифов о реформе полиции // URL: https://zn.ua/internal/sem-mifov-o-reforme-policii-265818_.html
12. Мазунин Я.М., Мазунин П.Я. Негласная деятельность следователя: пора признать данность // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. № 1 (31). С. 136 – 140.
13. Маилунц Б.Э. Оперативные подразделения как субъекты уголовного преследования // International scientific journal "Internauka." Series: "Juridical Sciences". 2018. № 3 (8). С. 57 – 62.
14. Новикова Е.А., Шумилин С.Ф. Следственная и оперативно-розыскная деятельность: интеграция или взаимодействие? // Судебная власть и уголовный процесс. 2018. № 2. С. 86 – 95.
15. Попов А.П., Попова И.А. Вытеснение документов вещественными доказательствами в уголовно-процессуальном праве // Правовые институты и методы охраны окружающей среды в России, странах СНГ и Европейского союза: сб. науч. статей. Саратов, 2018. С. 130 – 132.
16. Попов А.П., Попова И.А. Интеграция розыскных начал в уголовное производство государств на постсоветском пространстве // Пробелы в российском законодательстве. 2019. № 1. С. 162 – 165.
17. Рогатюк И.В Проблемы уголовно-процессуальной регламентации проведения негласных следственных (розыскных) действий: опыт Украины и других стран // Актуальные вопросы права, образования и психологии. Сб. науч. трудов. Могилев, 2015. С. 265 – 273.
18. Розовский Б.Г. Когда проблему ищут не там, где она действительно есть (заметки всем недовольного человека) // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 1. С. 152 – 167.
19. Розовский Б.Г. Уголовный процесс: затянувшееся противостояние Средневековью // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 6 (11). С. 47 – 65.
20. Россинский С.Б. Уголовный процесс России: курс лекций. – 2-е изд., исправл. и доп. – М.: Эксмо, 2008. – 576 с.
21. Специальные следственные действия – основа эффективной борьбы с международным терроризмом и организованной преступностью: монография / Г.А. Василевич, С. Казака, В.М. Мешков, А.Н. Соколов / под ред. проф. А.Н. Соколова. Калининград: КЮИ МВД России, 2010. – 144 с.
22. Стельмах В.Ю. Тактико-специальные следственные действия в российском уголовном процессе // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. № 1 (65). С. 54 – 60.
23. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія. Київ: ВД «Дакор», 2015. – 440 с.
24. Тагиев С. Перспективы развития института негласных следственных действий в уголовном производстве Украины // Legea si viata. 2015. № 10/2. С. 74 – 77.
25. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. В 2 т. Т. 1. СПб.: Альфа, 1996. – 552 с.
26. Шейфер С.А. Проблемы пополнения познавательного арсенала следователя // Государство и право. 2013. № 6. С. 45 – 51.
27. Попов А.П., Попова И.А., Зинченко И.А. Проблемы современного доказательственного права: монография. Пятигорск, 2019. С. 159 – 177. URL: http://www.iuaj.net/node/2611
»

