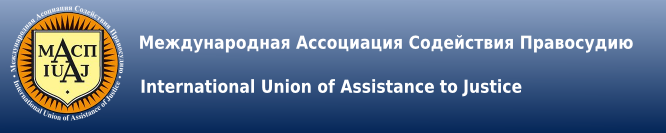Зуев С.В. Отказ от бумажного производства по уголовным делам: отчасти экологический вопрос
Опубликовано Zuev Sergey в Пнд, 24/03/2025 - 12:25
 Статья посвящена проблемам цифрового развития уголовного судопроизводства, имеющего экономический, политический, правовой, психологический, идеологический и экологический аспекты.
Статья посвящена проблемам цифрового развития уголовного судопроизводства, имеющего экономический, политический, правовой, психологический, идеологический и экологический аспекты.
Зуев С.В. Отказ от бумажного производства по уголовным делам: отчасти экологический вопрос // Правопорядок: история, теория, практика. 2025. № 1(44). С. 62-67.
Введение
Бумажное производство по уголовным делам – знакомая, годами наработанная форма отражения хода и результатов раскрытия и расследования преступлений, а также рассмотрения уголовных дел в суде, пересмотра судебных решений при обжаловании в апелляционном, кассационном и надзорном порядке. Отказаться от письменного способа представления доказательств тем, кто привык к традиционным, шаблонным средствам и методам доказывания, также непросто, как и принять надвигающуюся эру электронного отправления правосудия.
Трансформацию уголовного судопроизводство в современных условиях можно рассматривать через призму экономических, политических, правовых, психологических, идеологических и даже экологических проблем, решение которых можно оценивать как положительно, так и отрицательно в зависимости от выбранного отношения к происходящим изменениям.
Описание проводимого исследования
Цифровое развитие общества и государства требует переосмысления устоявшихся основ, прогнозирования перспектив и оценку возможных последствий широкого внедрения сквозных технологий[1] во все сферы жизнедеятельности, включая уголовное судопроизводство. Перед началом проведения исследования было сделано предположение о многоаспектности данного вопроса относительно производство по уголовным делам. Применяя системный метод изучения проблем в данной сфере был выделен экономический, политический, правовой, психологический, идеологический и экологический аспект и рассмотрен применительно к переходу от бумажного к электронному формату такого производства. Двигаясь дедуктивно от общего к частному обозначены проблемы в каждом выделенном аспекте, а также некоторые положительные и отрицательные моменты. Обобщая собранный материал сделан вывод о перспективах и направлениях дальнейшего развития электронного уголовного процесса.
Результаты проводимого исследования, обсуждения
Экономия материальных ресурсов при переходе к электронному производству по уголовным делам просматривается в первую очередь. В пояснительной записке в Проекту Федерального закона, внесшего в текст Уголовно-процессуального кодекса правовую возможность предоставлять обвиняемому копию обвинительного заключения в электронной форме, дано четкое обоснования экономической выгоды перехода на электронные аналоги итоговых документов по окончанию расследования. Многотомные дела требуют значительных затрат на их обеспечение бумажными носителями информации, которые по мере производства по делам превратятся в протоколы, постановления и другие процессуальные документы.
Для примера: в 2020 году в суд после предварительного расследования было направлено уголовное дело по обвинению 23 руководителей и участников преступного сообщества в совершении незаконного сбыта синтетических наркотических средств и психотропных веществ посредством сети «Интернет». Данными лицами, по мнению органов расследования, было совершено 73 тяжких и особо тяжких преступления. При этом только одно обвинительное заключение составило 460 томов. Учитывая количество обвиняемых, на изготовление копий этого итогового документа понадобилось 1 240 коробок бумаги, использовался 621 картридж для копировальных машин[2]. И это далеко не единственный случай многотомных дел в судебной и следственной практике.
Экономия средств в уголовном процессе может касаться не только канцелярских товаров, но и самой работы следователей, дознавателей и судей, а также содержания лиц, находящихся под стражей. Деятельность суда в последнее время часто рассматривают относительно возможностей внедрения и использования технологий искусственного интеллекта [13, с. 115]. В Китае, к примеру, судьи просто обязаны считаться с решением, предложенным искусственным интеллектом[3]. Чем не аналог коллегиальности (в плане группового принятия процессуального решения) с возможным сокращением численности судей?
8 августа 2024 года Президентом РФ был подписан Федеральный закон № 267-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», позволивший проводить свидания обвиняемого с его защитником дистанционно, то есть с применением видео-конференц-связи[4]. Об этом были внесены соответствующие изменения в УПК РФ. В данном случае просматривается экономия на использование дополнительных помещений и их поддержание.
Об экономии средств в уголовном процессе писали и пишут многие ученые, рассуждают практикующие юристы. Не вдаваясь в дискуссию относительного этого вопроса, хочется лишь заметить, что экономический фактор имеет немаловажное значение, в том числе с учетом существенных затрат государства на военные нужды.
О.В. Маричева напрямую связывает экономию и затраты на уголовное судопроизводство и считает, что «внедрение комплексной системы цифрового судопроизводства в период военного положения способно обеспечить ощутимую экономию средств», а отказ от бумажного документооборота позволит автоматизировать рутинные процессы и более рационально использовать ресурсы судов [14, с. 124].
При этом одновременно просматривается оптимизация деятельности органов расследования. Исследуя вопрос организационно-технического обеспечения деятельности органов предварительного расследования по использованию электронного документооборота в досудебном производстве, С.А. Рябчиков пришел к выводу о том, что переход на электронные документы позволит органам предварительного расследования оптимизировать свою работу и повысить ее эффективность. Создание цифровой платформы позволит вести расследование в электронном формате, при этом доступ к информации станет более быстрым и доступным. Это также будет способствовать централизованному хранению уголовных дел, документов, а значит и доказательств, что приведет к искоренению утраты материалов дел. В режиме реального времени участники уголовного процесса смогут подключаться и участвовать в расследовании. Это также создаст условия для оперативного реагирования на жалобы, заявления, ходатайства. Расследование станет более прозрачным, удобным и качественным. С экономической точки зрения, по мнению автора, создание единой цифровой площадки снизит затраты на печать и хранение бумажных документов, что приведет к экономии времени и средств [19, с. 95].
Таким образом, экономия напрямую затрагивает экологический вопрос, поскольку сохраняются не только леса, но и материальные ресурсы. В перспективе возможен переход на так называемый «беспредметный» уголовный процесс, когда на смену материальным объектам придут цифровые образы. Это касается как переносимых предметов и ценностей, так и объектов недвижимости. Возможно, что в перспективе не понадобятся в таком большом количестве кабинеты, здания. В этом просматривается некая аналогия с оказанием банковских услуг. Цифровая среда – благоприятное пространство для решения как финансовых, так и правовых вопросов, в том числе в сфере уголовного судопроизводства.
В данном случае также уместен вопрос о процессуальной экономии, связанной с оптимизацией, рациональным использованием материальных ресурсов и сокращением сроков по уголовным делам [7, с. 98].
Различного рода сканеры позволят фиксировать и представлять в цифровом изображении вещественные доказательства и предметы, обнаруженные на месте совершения преступления. Активное применение средств видеофиксации даст возможность применять видеомоделирование как для производства различных следственных действий, так и для демонстрации в суде «результатов в видеографической форме» [4, с. 196].
Политический аспект рассматриваемого вопроса связан с позиционированием государства в мировом сообществе, с оценкой уровня его развития относительно других стран, со взаимодействием государств в том числе по линии работы правоохранительных органов и судов, с обменом информацией и распространением положительного опыта.
Российская Федерация является одной из ведущих стран в мире страной, с развитой экономикой и инфраструктурой. Применение современных технологий в уголовном судопроизводстве следует рассматриваться как один из показателей уровня развития внутригосударственных отношений. Таким же критерием служит институт рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей, который был восстановлен после распада Советского Союза в 1993 году [14]. Показательно то, что цивилизованность государства предполагает существенные финансовые затраты на поддержание соответствия заданному критерию. С другой стороны, отсутствие соответствующих технологий в государстве на сегодня может трактоваться как отставание. Верно замечено, что российский законодатель характеризуется осторожностью, отсутствием спешки внедрения в уголовное судопроизводство – как самую строгую сферу правоотношений, цифровых новшеств без продуманных гарантий прав участников процесса и обеспечения достоверности получаемых сведений, претендующих на доказательственное значение [2, с. 351].
В настоящее время в разных странах можно наблюдать три варианта производства по уголовным делам: традиционный бумажный, смешанный (с элементами использования электронных документов) и электронный. Поскольку взаимодействие правоохранительных органов относительно раскрытия, расследования преступлений и рассмотрения уголовных дел в судах предполагает обмен информацией, документами и даже передачу уголовного преследования, то любая система должна быть готова к принятию и работе с любыми видами документов, в том числе в электронном виде.
На сегодня можно назвать десятки стран, где осуществляется электронный документооборот в сфере уголовного судопроизводства. Среди них Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Южная Корея, США, Китай, Республика Казахстан, Азербайджанская Республика, Сингапур и др. [1; 9; 8; 6] Если документы в электронном виде будут представлены в Российскую Федерацию для дальнейшего производства по уголовным делам, то это станет проблематичным, так как их потребуется перевести в бумажный текстовый формат, при этом доказательственное значение будут иметь все документы, включая электронные.
Психологический аспект отказа от бумажного производства по уголовным делам связан с трудностями перехода на цифровое уголовное производство. Проблемы такого рода, как правило, имеют место в головах некоторых правоприменителей (следователей, дознавателей, судей), ученых и граждан. Профессиональный аспект в данном случае просматривается по результатам проводимых опросов. Так, по результатам исследования С.А. Рябчиков указывает на то, что только 68% из числа опрошенных согласны с необходимостью перехода на видеопротоколирование [18 с. 57]. Это означает, что есть и те, кто не желает этого, возможно из-за того, что удобнее проводить расследование в привычной бумажной форме, поскольку технологии требуют большей ответственности и грамотного ведения дел.
Недоверие технологиям отчасти проявляется относительно широкого использования искусственного интеллекта, в том числе в уголовном процессе. Угроза потери места работы также рассматривается как один из факторов отторжения развития науки и техники и внедрения их результатов в правовую сферу уголовного судопроизводства.
Активные дискуссии, как правило, заканчиваются признанием того, что «искусственный интеллект не способен полностью вытеснить юристов с рынка. Вместе с тем уже в ближайшем будущем юристам все же придется встраиваться в новую систему отношений»[5]. Все это потребует от юристов повышение знаний в сфере применения новых технологий.
М.П. Поляков также обратил внимание, что этот вопрос имеет идеологический характер. В частности автор отмечает, что «цифровой должна стать не только техника, но и мировоззрение; мировоззрение как тех, кто формирует доказательства, так и тех, кого они призваны убедить, включая самые широкие социальные слои» [16, с. 230].
Правовой аспект широкого применения цифровых технологий связан с отсутствием в Российской Федерации надлежащей законодательной базы, а также необходимого количества подзаконных, в том числе межведомственных, актов для осуществления уголовного судопроизводства в цифровой среде. Архиважным становится разграничение уровней правового регулирования возможных цифровых уголовно-процессуальных отношений.
Повсеместно обсуждаются вопросы, связанные с тем, что должно найти отражение в УПК. По всей видимости, в данном законе должно быть прописано то, что влияет на законность и допустимость доказательств, а также прямо служит реализации назначения уголовного судопроизводства.
Появление различных регламентов применения технических средств меняет представление о традиционном, законном регулировании. Пример тому Приказ от 28 декабря 2015 г. № 401 «Об утверждении регламента организации применения видео-конференц-связи в федеральных судах общей юрисдикции»[6]. Кроме того, порядок подачи жалоб, ходатайств, заявлений и представлений прокурору, следователю, руководителю следственного органа, в орган дознания, дознавателю в электронном виде, а также требования к их оформлению и используемым техническим средствам могут определяться нормативными правовыми актами Следственного комитета РФ, федеральных органов исполнительной власти, в состав которых входят органы предварительного расследования, Генеральной прокуратуры РФ (ч. 4 ст. 474.2 УПК РФ). Все это можно рассматривать как начало тенденции к многоуровневому правовому регулированию значимых для уголовного судопроизводства вопросов.
Не менее важным является вопрос об использовании технологий искусственного интеллекта в уголовном процессе.
Представляется, что попытки рассмотреть значение искусственного интеллекта (далее – ИИ) через призму правосубъектности [17] обречены на неудачу. Многие высказываются о том, что ИИ не может быть субъектом для принятия решений. Ответственность должна возлагаться на должностное лицо. Однако в данном случае хочется высказать и некоторые вполне разумные сомнения в безукоризненности использования такого подхода.
Так, если судья является субъектом, то не исключена и субъективность. ИИ в этом плане более объективен, а значит субъектность как категория подлежит переосмыслению на фоне внедрения современных технологий.
Кроме того, как уже отмечалось, в Китае судья должен считаться с предложенным ему технологическим решением. Но стоит заметить, что даже при коллегиальном рассмотрении дел, судья не учитывает мнение других судьей при высказывании своего мнения. Это означает, что предложенное решение ИИ имеет если не большее значение, то такое, с которым необходимо считаться. Следует также учитывать, что искусственный интеллект в 97% рассмотренных дел предлагает верное решение [21].
ИИ способен проявлять признаки правосознания, например: выбирать вариант поведения, квалифицировать содеянное, принимать решения, действовать в условиях изменчивости внешних воздействий, самообучаться, инициативно совершать юридически значимые действия. Однако вряд ли этого достаточно для придания ИИ правосубъектности, да и нужно ли это делать – тоже вопрос.
Существует также мнение о возможном наделении ИИ статусом электронного лица как некой аналогии с юридическим лицом [3, с. 16]. Здесь возникает противоречие в том, что возлагая на такое электронное лицо ответственность, ИИ не будет испытывать негативные последствия от возложенного на него наказания в случае ошибок, допущенных нарушений, а значит отсутствует некая форма ответного воздействия.
Известно, что БПЛА могут быть оснащены ИИ, благодаря чему способны самостоятельно принимать решения при нанесении ударов по военным объектам. Такие эксперименты проводятся в и зоне СВО. Человек нужен только для запуска дрона, далее он самостоятельно «залетает в зону своего действия, сам определяет цель – например, блиндаж, пулемет или танк – атакует» [11]. Даже если связь между пультом и устройством будет нарушена, машина продолжит выполнение полетного задания.
Системы видеонаблюдения любого современного города оснащены алгоритмом, который без участия человека в автоматическом режиме оформляет штрафы за нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств. Предусмотрена возможность обжаловать, но по сути обжалованию подлежит техническое решение [10].
Возможно, находясь пока на недостаточном уровне развития, человечество не готово признать равенство и даже преимущество технологий в решении ряда правовых вопросов, но это вопрос времени.
В данном случае более удачным выглядит мнение о том, что «необходимо более активно и комплексно внедрять информационные технологии в судебную систему, как вспомогательных инструментов, так и инновационных решений, способных частично или полностью заменить традиционные судебные процедуры» [14, с. 122].
М.П. Поляков считает, что главной опасностью внедрения цифровых технологий может стать «значительное уменьшение роли человека в правосудии, вплоть до полного перехода правосудия в подчинение искусственному интеллекту» [15, с. 69]. Однако может быть все зависит от уровня восприятия ситуации. Представляется возможным рассматривать цифровое развитие общества и государства в 4-х уровневой системе, где первый – это появление ЭВМ и обмен информации посредством электронной почты; второй – массовый выход людей в сеть Интернета и коммуникация в виртуальной среде; третий – признание равными, с созидающим эффектом некоторые продукты человеческого и технологического производства; четвертый – признание преимущества результатов работы технологий перед человеком созданным аналогом его деятельности. В настоящее время мы, в большинстве своем, находимся еще на втором уровне, поэтому третий и тем более четвертый могут восприниматься как угроза устоявшимся ценностям. Кроме того, не надо забывать, что человечество имеет опыт по «обузданию» и управлению техническими и энергетическими потенциально опасными средствами обеспечения жизнедеятельности. Это и транспорт, и атомная энергетика, и многое другое.
Президент Российской Федерации В.В. Путин оценивая ситуацию, призывает заранее купировать все риски, связанные с управлением ИИ [5].
Общие тенденции, которые можно сейчас наблюдать в разных правовых системах уголовного судопроизводства, это повышение доверия общества к электронному правосудию, оптимизация рассмотрения судебных дел, широкое внедрение информационных технологий в производство по уголовным делам, переход на электронное раскрытие и расследование преступлений, организация дистанционного взаимодействия всех лиц, участвующих в уголовно-процессуальных отношениях, ускорение судопроизводства, упрощение доступа к судебной защите.
Хочется также заметить, что в условиях технологического развития вновь создаваемые правовые отношения плохо укладываются в известные представления о событиях. Ломаются привычные стереотипы; используемый ранее понятийный аппарат не может описать интернет-реалии; виртуальные мир нуждается в создании новой модели миропонимания. Правовые отношения в среде материальных объектов, обеспеченные правовой защитой, транспонируются в цифровую среду. Появление новых цифровых и квантовых решений требует дополнительной защиты конституционных прав граждан. Личный суверенитет выходит за рамки физического тела человека и приобретает признаки цифровых отношений.
Неприкосновенность жилища нарушается в случае получения информации посредством проведения электронного наблюдения за тем, что происходит внутри его. О.Н. Ходасевич сформулировал об этом свою позицию так: «всякое «беззаходовое» использование технических средств, позволяющих получать информацию о происходящем в жилище событиях, следует рассматривать как ограничение неприкосновенности жилища, требующее судебного решения» [20].
Квантовое сканирование зданий, сооружений требует соответствующих механизмов правового регулирования [22, с. 28]. Складывается впечатление, что конституционные права человека отделимы от материальных объектов (физических тел) и претендуют на нечто большее в цифровой среде, в которой человек добровольно или по общему правилу предоставляет о себе информацию. Последнее становится мегаресурсом, центром денежных отношений, находясь одновременно под пристальным вниманием криминальных структур и разного рода недоброжелательных лиц.
Результат исследования и выводы
В заключении хочется заметить, что отказ от бумажного производства по уголовным делам – это не только экологический вопрос. Значительнее этого выглядит преодоление стереотипов, стандартов и привычек в рутинной работе органов расследования и судов. Вопросы экономического, правового, идеологического и психологического характера еще длительное время будут оставаться в центре внимания. Однако уже сегодня наблюдаются предпосылки развития цифровизации уголовного судопроизводства, и учитывая положительный зарубежный опыт возникает уверенность, что все проблемы на этом пути будут успешно преодолены.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Артемова В.В., Ермаков С.В., Иванов Д.А. Зарубежный опыт и перспективы использования электронного формата уголовных дел в Российской Федерации // Международное уголовное право и международная юстиция. 2024. № 1. С. 7-10.
2. Афанасьева С.И., Добровлянина О.В. О внедрении, развитии, усовершенствовании электронных способов собирания доказательственной информации по уголовным делам // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2023. № 60. С. 349-377.
3. Болотаева О.С. Правосубъектность искусственного интеллекта // Государство и право. 2022. № 4 (208). С. 15-17.
4. Высокотехнологичный уголовный процесс: монография / под ред. докт. юрид. наук С.В. Зуева, докт. юрид. наук Л.Н. Масленниковой. М.: Юрлитинформ, 2023. 216 с.
5. Греф Г.О. Президент РФ призвал продумать заранее и купировать все риски, связанные с ИИ. URL: https://tass.ru/ekonomika/10172451 (дата обращения: 10.01.2025).
6. Зайцев О.А. Особенности использования электронной информации в качестве доказательств по уголовному делу: сравнительно-правовой анализ зарубежного законодательства // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2019. № 4(77). С. 42-57.
7. Зуев С.В. Информационные технологии и принцип процессуальной экономии в уголовном судопроизводстве // Правопорядок: история, теория, практика. 2021. № 4(31). С. 98-105.
8. Информационные технологии в уголовном процессе зарубежных стран / Д.В. Бахтеев, В.А. Задорожная, А.И. Зазулин [и др.]. М.: Юрлитинформ, 2020. 216 с.
9. Казакова Т.А. Использование технологий искусственного интеллекта в области правосудия // Экономика и право: проблемы, стратегия, мониторинг / под ред. Е. В. Фомина. Чебоксары: Изд. дом «Среда», 2023. С. 143-151.
10. Керсипова Е. Штрафы с камер ГИБДД в 2024 году: за какие нарушения приходят, как обжаловать. URL: https://lenta.ru/articles/2024/05/17/shtrafy-s-kamer-gibdd-v-2024-godu/ (дата обращения: 09.01.2025).
11. Кирилов М. «Дрон сам определяет цель и атакует» Как в зоне СВО разрабатывают и тестируют новейшее российское оружие.URL: https://lenta.ru/articles/2024/07/19/nevskiy/(дата обращения: 11.01.2025).
12 Климачсева К. Суд присяжных в России: прошлое, настоящее и будущее. URL: https://pravo.ru/story/233124/ (дата обращения: 10.01.2025).
13. Кравчук Н.В. Искусственный интеллект как судья: перспективы и опасения // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4: Государство и право. 2021. № 1. С. 115-122.
14. Маричева О.В. Цифровые решения для оптимизации назначения уголовных наказаний в условиях военного положения // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2024. Т. 14, № 5. С. 115-129.
15. Поляков М.П. Цифровизация: слуга или повелитель правосудия? // Государство и право в изменяющемся мире: проблемы и перспективы цифровизации правовой среды: Материалы VIII Международной научно-практической конференции, Нижний Новгород, 24 марта 2022 года. Нижний Новгород: Автор, 2023. С. 69-78.
16. Поляков М.П. Доказательства и цифропись в уголовном процессе: ожидание волшебства // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2020. № 1(49). С. 229-231.
17. Ралько В. Правосубъектность искусственного интеллекта: возможно ли? Правовой и морально-этический аспект. URL:
https://zakon.ru/blog/2023/10/17/pravosubektnost_iskusstvennogo_intellekta_vozmozhno_li_pravovoj_i_moralno-eticheskij_aspekt (дата обращения: 08.01.2025).
18. Рябчиков С.А. Видеопротоколирование как средство уголовно-процессуального доказывания // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2024. Т. 24, № 2. С. 56-62.
19. Рябчиков С.А. Организационно-техническое обеспечение деятельности органов предварительного расследования по использованию электронного документооборота в досудебном производстве // Правопорядок: история, теория, практика. 2023. № 4(39). С. 89-95.
20. Ходасевич О.Н. Ограничения права личности при проведении отдельных видов ОРМ. Примерные пути решения // // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2015. № T13. С. 4316-4320. URL: http://e-koncept.ru/2015/85864.htm (дата обращения: 10.01.2025).
21. Чаплыгина М. Судей в КНР обязали использовать ИИ при вынесении решений. URL: https://rapsinews.ru/international_news/20220719/308146405.html (дата обращения: 11.01.2025).
22. Чурикова А.Ю. Риски ограничения прав человека при использовании квантовых технологий в уголовном судопроизводстве // Информационное право. 2024. № 3(81). С. 27-30.
[1] Сквозные технологии (технологические направления) – перспективные технологии межотраслевого назначения, обеспечивающие создание инновационных продуктов и сервисов и оказывающие существенное влияние на развитие экономики, радикально меняя существующие рынки и (или) способствуя формированию новых рынков (Распоряжение Правительства РФ от 20 мая 2023 г. № 1315-р Об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 г.).
[2] Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/312970-8
[3] URL: https://rapsinews.ru/international_news/20220719/308146405.html
[4] URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202408080077
[5] URL: https://www.hse.ru/news/edu/207697158.html
[6] Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2015 № 401 (ред. от 30.12.2020) «Об утверждении Регламента организации применения видео-конференц-связи при подготовке и проведении судебных заседаний» // СПС «КонсультантПлюс».
»